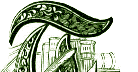 |
|
  |
|
В. Генисаретская
МИР ТОЛКИЕНАНиколай Гумилев, почти ровесник Толкиена и, так же, как и Толкиен, участник I мировой войны, считал, что поэзия - это мифотворчество (Гумилев как поэт и теоретик поэзии выделял только поэзию, но, несомненно, мог бы распространить это определение и на другие виды творчества). При этом миф - "самодовлеющий образ, имевший свое имя и развивающийся при внутреннем соответствии с самим собой"[1]. Миф не придуман в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это слово. Он творчески угадан, уловлен. Причем это угадываемое и улавливаемое выстраивается в видимом творческом пространстве в строгом соответствии с самим собой, т.е. с очень древними и глубинными законами мифообразования. В мире этих законов ориентиры разнообразны, но все они значимы и не случайны. Это связь стихий, числовые и цветовые ряды, атрибуты персонажей, звездные коды и многое другое, на Изучение чего можно отдать жизнь, и не одну. В логике мифа, если говорить несколько аллегорически, волк никогда не блеет по-овечьи (что в современной" культуре встречается часто). При соблюдении всех законов жизни и дыхания мифа, - но при соблюдении в богодохновен- ном творчестве, ибо простой расчет здесь ничего, кроме более или менее удачной стилизации, не даст (и тогда это, например. "Огненный ангел"), - наступает эффект убедительной реальности. "Железный " XIX век - не только век расцвета прагматизма, век науки, окончательно отделяющейся от человека, но и век научного собирания и начала изучения древнейшей мифологии, обрядов, фольклора, архетипики. Это - не только иск, когда тайное сакральное знание стало опасно доступным для "массовой" оккультной или околооккультной "элиты", но и время ответственного восприятия этого знания, собирания его и пере-про-живания. Очень тонкие и одаренные люди в начале XX века (Гумилев просто не успел, хотя были и "Заблудившийся трамвай", и попытка "Веселых братьев") почувствовали необходимость творческого и ответственного возвращения в единое древнее лоно культуры, когда человек знал, какие слова он может употреблять и как ему научиться видеть мир правильно, и как "различать духов", и многое другое. "Будем верить, - писал Гумилев, - что наступит время, когда поэты станут взвешивать каждое свое слово с той же тщательностью, как и творцы культовых песнопений'[2]. Наверное, надо было родиться в Англии, в ещё той, не перенаселенной "лимитчиками" Англии, пройти там курс "счастливого детства", обитающего в мире волшебной сказки, и позже - фантастической литературы, в реальность многих образов которое англичане верят не меньше, чем в реальность столп и стула (Музей Шерлока Холмса, памятники ему, его "научные биографии" и альбомы родословной, например); и надо было пройти ужасную мировую войну, в окопах, с простыми людьми; и потом стать выдающимся кельтологом, чтобы создать "сотворенную реальность" Средиземья. Создать язык Нуминора, а язык - ведь это тоже миф, с очень сложной, но четкой структурой, с "железными" законами. Создать историю и географию, фольклор и обычаи страны, в существование которой ныне невозможно не поверить. Создать произведения, равно восторженно любимые и детьми и взрослыми в самых разных земных регионах. И, конечно, Толкиен не только был глубоко "почвенным" человеком, не только ученым, не только одаренным творчески. Но одаренным мистически и мистически грамотным. Ибо не случайно в его творчестве нет никаких реалий, соотносимых с христианским вероучением и культом. И здесь вновь уместно вспомнить Гумилева, считающего попытки познание Бога "низводить до уровня литературы", или, напротив, поднимать литературу "в алмазный холод" теологии "нецеломудренными"[3]. Соблазны такого рода перед художником всегда существуют, и мало кому удается их избежать. У Толкиена как бы нет "крещеных" персонажей, он не вторгается в сферу высочайшего культа и высочайшей реальности, он не смешивает. И это так же очевидно, как и то, что Толкиен - христианин. А ведь даже наш великий, гениальный Достоевский писал вымышленное житие святого, "отпевал" в церкви - на страницах своего романа - вымышленного Илюшечку. Евгений. Шифферс с его (такой немецкой) способностью во всем "доходить до самой сути", предельно-внимательно относиться к культам, символам и всему тому, на что многие склонны не обращать внимания, считает, что это культово и мистически неправильно и даже опасно. Почти так же, как вымышлять жизнь реально живших людей (в априорном предположении, что они это не видят, что их больше совсем нет нигде). У Толкиена ничего такого нет, и, вероятнее всего, сознательно нет, что, повторю, говорит о высоком ранге ответственности и мистической грамотности. В сферах, в которые Толкиен не вторгался - святость и молчание; а если "литература" - то лишь свидетельствующая о подлинно пройденном пути "стяжания Духа Святого". Дух же "дышит где хочет". В каждой: крупице прекрасного сотворенного мира - в каждом его цветке, луче, в небесах, дождях к радугах, в живых водах морей, в травах и холмах, ветвях, облаках, во всем, что деяниями глупых еще не превратилось в руины. Дух дышит и в бережно несомом человеком даре творчества. В способности человека "творить реальность". Если это, конечно, от Бога, а не самозванство. А как же различить, отличить одно от другого? Прежде всего, каждый от рождения просто умеет различать, а если уснул, уже не умеешь, то при желании можно и проснуться. Однако есть и "научные" способы различения. Самый простой и доступный - посмотреть, как в том или ином "произведении искусства" обстоит с Добром и Злом. Смешаны ли они, так что не поймешь, есть ли между ними грань? Бывает ведь, что зло выводится как нормальное, норма. Или они названы, обозначены (не как в учебниках, конечно), разведены намертво, так что никаких сомнений не возникает? Соблюдаются ли в произведении десять заповедей? Где автор? За чью он "армию"? И ото - очень серьезно. Приходится слышать, как про того же нашего гениального Достоевского говорят: он-де "описывал низости". Но ведь он их именно как низости и описывал, извлекал зло, именовал его, нигде не подавая повод думать, что оно - норма. И освещал его Светом. И (по законам мифообразования) противополагал ему Добро, благобытие и высоты человеческого духовного совершенства. И когда читатель плачет над Евангелием вместе с героями Достоевского - это и есть действие несамозванного Света творчества. Это, конечно, не Мамлеев, "тоже описывающий низости". В миро Толкиена Добро и Зло разведены, и все заповеди соблюдаются неукоснительно. Холодное, липкое, без малейших проблесков милосердия Зло, от которого кровь застывает в жилах (вся черная иерархия во главе с Властелином Мордора - призрачные всадники, умертвия, и пр.). Веселое, мудрое, светлое Добро (Гэндальф, Эльфы, Энты, отважные и добрые люди, хоббиты, гномы, Бомбадилл и т.д.). Очень важно, что у Толкиена Добро никогда не творит зла, даже во имя благих целей. Отвергает Кольцо Всевластия, даже если бы оно и принесло победу над Мордором; не убивает (только в открытых сражениях) никого, даже падшего, злобного, но и жалкого Голлума, даже падшего, но еще ниже, ибо с более высоких высот, - Саурона. И в мире Толкиена любое зло наказуемо. Будь то помысел, слово или деяние. Груз Кольца - расплата за не совсем честное, пусть жизненно оправданное, овладение им. Смерть Боромира - за искушение завладеть Кольцом. Предательство Голлума - за недоверие и жестокие слова Сэма. И палец Фродо - за мимолётное помрачение, искушение стать Властелином. Но расплата - только для тех, кто осознанно сослагается с миром Различения Добра и Зла - с миром Добра. То есть, способен и имеет силы к покаянию. Для других же - необратимое падение. Создавал Миф Средиземья, Толкиен создал еще один Миф, и во многом здесь - корни ответа на вопрос: зачем, для чего понадобилось ученому профессору "выдумывать" страну, ее географию, историю, язык, песни, ее существ и т.д. Конечно, затем, чтобы в отдохновении обитать там. И не только в том смысле, в каком писал друг Толкиена и тоже замечательный английский писатель Клайв Льюис. А Льюис признавался, что пишет такие книги, какие всю жизнь, с детства, мечтал читать. Толкиен создавал страну, в которую надеялся "попасть". Не буквально, конечно, в смысле загробного попадания в Средиземье, в Серебряный лес Лориэна, в пещеры энтовых хрустальных вод, в струи волшебных целительных рек... Мы знаем, читали, что "за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда" (МФ.12.36). Толкиен, разумеется, это ясно помнил и понимал. Но понимал он и то, что нам будут предъявлены не только наши "плохие" помыслы, слова и деяния, Будет не только расплата, но и воздаяние, награда. Христианство - это ведь не мир мрака и страха, но мир света и надежды. Надежды на нетленность духовных сокровищ, обретаeмых в этой жизни. У Толкиена. есть небольшой рассказ "Лист Найгла" (Leaf by Niggle). Сюжет его кратко таков. Жил человек, самый обыкновенный, Найгл. Как и всем, ему предстояло Путешествие. Но он к нему не готовился, не собирал "багаж". Не любил, когда его о чем-то просили, хотя и не мог отказать. Был он довольно посредственным художником. Художником, у которого "лист получался лучше, чем дерево". Так и началась однажды его картина - с листа на ветру. Потом появились ветви, ствол. Дерево пустило корни. Странные птицы прилетели. Картина увеличивалась. На заднем плане обозначился лес, а еще дальше - покрытые снегом горные вершины. Найгл знал, что времени на окончание картины осталось совсем мало, поэтому весьма неохотно воспринял просьбу Пэриша, своего ближайшего соседа. Пэриш же попросил Найгла съездить в город за доктором для больной жены и за строителями, ибо ураган снес часть крыши дома Пэриша. И Найгл отправился на велосипеде под дождем, проклиная соседа и грезя о своей картине. Вернувшись, заболел, слег, а когда немного оправился и собирался продолжать работу, за ним, пришли и сказали, что пора отправляться в Путешествие. Прибыв на место, Найгл обнаружил, что небольшой, второпях захваченный "багаж" он оставил в "поезде", так что оказалось, что он совершенно нищ. И его отправили туда, куда отправляют нищих, - в странный дом, на странное "лечение", состоящие в монотонной скучной работе и в "лежании в темноте". Найгл постепенно забыл свою предыдущую жизнь, но зато научился тому, что никогда не умел: овладению своим временем. После этого он стал свидетелем разбора своего "дела". Два голоса обсуждали его жизнь, в которой оказалось очень мало ''благоприятных" пунктов, по все же последний случай с Пэришем позволил перевести Найгла на "более мягкий" курс лечения. Радость, охватившая Найгла при этом, одновременно стыд (ибо он чувствовал себя недостойным "мягкого курса") не помешали ему, однако, попросить за своего соседа и выразить желание встретиться с ним. И вот Найгл прибыл в новое место. Оно оказалось странно-знакомым. Очертания земли, цветы и травы - все казалось уже виденным. Наконец, он поднял глаза и увидел Дерево. Его дерево. Но живое. Оно дышало, сияли листья, пели птицы. Вдали тянулся лес, а еще дальше - горы, словно за ним начиналась новая картина, новый мир. Все, что Найгл нарисовал, или представил, или мог бы представить и задумать, окружало его. Этот мир Найгл воспринял как Дар. Но мир был незакончен, предстояло еще много работы, и в это" работ", как Найгл почувствовал, ему мог бы помочь его бывший сосед. И тот появился, и помог Найглу все сделать. После Найгл пошел с Проводником "дальше и выше", в горы, за границы своей картины, "а что за горами, лишь тот знает, кто попал туда". Пэрши же пока остался ждать свою жену, которая "должна одомашнить все это". Страна получила название Найгл-Пэриш. Она оказалась замечательным местом для "восстановления и подготовки к горам". Когда Найгл и Пэриш - уже в запредельных для автора У. для читателя пространствах - узнали, как названа страна, они рассмеялись. "Рассмеялись - горы зазвенели". А в мире, оставленном Найглом, картина его пропала, и о нем почти никто не вспомнил. Маленький, невзрачный человек оказался способным уловить жизнь Древа, блеск Горных Вершин, Весенний Ветер, сияние Листвы, пение Источника. Конечно, о его Картине, в его главной" картине на Земле, где это воплотилось лишь слабым отблеском, бликом, но и в такой "малости" можно было при желании различить Источник Света (как объяснил Пэришу Проводник). Найгл, уйдя из тварного мира, смог исцелиться, смог стать готовым получить свою награду, - свой Дар. Толкин, как и его Найгл, создал прекрасный мир. В отличие от картины Найгла, наверное, более совершенный, законченный. Герои Толкиена изгнали из этого мира зло. И - как знать - во что там, где сейчас Толкиен, преобразился этот мир. Но верится, что он - благой. Если бы это было не так, человеческое творчество и самая культура не имели бы никакого смысла, как не имела Си его и человеческая жизнь. Мир Толкиена - мир надежды. 1 Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. Центральное кооперативное издательство "Мысль". Петроград, 1923, с. 160. 2 Там же, с. 17. 3 Там же, с. 41,42. Статья из сборника "Московский хоббит". М., 1988 г. Из Архива Романа Шебалина (д'Арси). |
| Новости | Кабинет | Каминный зал | Эсгарот | Палантир | Онтомолвище | Архивы | Пончик | Подшивка | Форум | Гостевая книга | Карта сайта | Кто есть кто | Поиск | Одинокая Башня | Кольцо | In Memoriam |
|
|
|
|
Хранитель: Oumnique | |