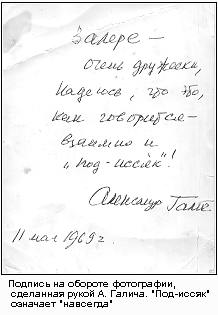 Шел 1965 год. Как сейчас говорим, начало застоя. Но времена были вполне
вегетарианские, никто не предлагал нам: "Пройдемте, там вам все разъяснят".
А были мы кто старшим преподавателем кафедры философии Белорусского
политехнического института, как мой друг Слава Степин, кто ассистентом, как
Альберт Шкляр, кто аспирантом (ваш покорный слуга). Много ли надо, чтобы
испортить жизнь. Один сигнал -- и вон из института с волчьим билетом.
Помню разговор во Фрунзенском после концерта. Солидный такой товарищ,
слушал внимательно, смеялся. Спрашивает:
- А чьи песни? Первый раз слышу.
Сказали.
- А не страшно?
Мы удивились:
- Чего тут такого? Легкая критика отдельных недостатков.
- Где ж легкая? Взять эту "Леночку". Девицу подарили сыну шаха, там и
гонец с ЦК КПСС в мотоциклетке марочной, и сынок потом покончил с папой, а
Леночку вашу уже как шахиню узнал весь белый свет. И это легкая критика?
- А нет? Девушку пригласили на прием к сыну шаха, он же гость и
попросил ее позвать. Там он ей предложил поехать с ним, она согласилась.
Новая жизнь, дальние берега. А что у сына Ахмеда рука оказалась тяжелой, так
вот это и есть легкая критика. Причем не ЦК, и даже не Ахмеда. Гость
все-таки был, а критика папы - шаха. Так его не очень-то и жалко. Он,
небось, от народа был страшно далек, хотя и не декабрист. Да и какие
декабристы могут быть в Африке? Там и декабря-то не бывает. Сплошное лето.
- А в этой, как его, про Парамонову, тоже легкая критика?
- Еще легче. Типичное персональное дело на мелкого человечка, мужа
профсоюзной начальницы.
- Небось секретаря ЦК профсоюзов?
-Там не сказано. Но допустим. Она мужа своего к порядку призвала. Ему
за аморалку дали строгача с занесением.
- А концовка?
- А что концовка? Это ж вообще хэппи энд. Что там говорит товарищ
Грошева - допустим, секретарь горкома? "Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
помиритесь вы теперь по-хорошему". Они помирились, никакого тебе развода. И
концовка оптимистическая: "Она выпила "Дюрсо", а я "Перцовую" за советскую
семью образцовую".
- Ну-ну, - усмехнулся товарищ. - Но вы все-таки осторожнее. Ходят-то
всякие. Неправильно могут понять.
Нет, что ни говорите, при обвешанном орденами Леониде Ильиче царили
вполне травоядные времена.
Лирические песни Галича мы не пели. И сложные философские - тоже. Это
уж потом приобщились. А вот репортаж с матча английской и советской сборных
- за милую душу.
Мы воспринимали богатый и сочный баритон Галича как голос пророка,
фигуры для нас почти инопланетной, мифической; мы его не видели, даже на
фотографиях. И вдруг...
Кончался 1968 год. Часов в семь вечера открывается дверь и входит моя
сестра Таня (я часто приезжал из Минска в Москву и останавливался у своих
сестер), рядом с ней какой-то большой человек. "Ребята, - сообщает она. -
Это - Александр Аркадьевич Галич!" Я и приехавший со мной из Минска Слава
Степин охотно поддержали шутку. А что это, если не шутка? Галич к
новогоднему столу. Для развлечения. Как сейчас говорят, анимация.
- Давно ждем, - отзывается Слава и широким жестом показывает на стол,
уставленный бутылками и закусками. -- Он поможет нам справиться с этими
антисоциалистическими элементами.
Напомню, дело происходило на следующий день после ввода войск в
Чехословакию.
- Под видом Деда Мороза,- вставил я свои аспирантские пять копеек. -
Чтобы никто не думал, будто мы отмечаем ввод войск в дружественную
Чехословакию. А просто наступил Новый год и приблизилось светлое будущее.
- Но я, действительно, Галич, - обезоруживающе улыбнулся большой
человек. С этими словами он показал нам членский билет Союза писателей.
Как пишут драматурги: пауза.
Но тут же - за стол и через пять минут казалось, что мы знакомы всю
жизнь. Разговор, естественно, пошел о Чехословакии. "Что ж, - сказал
Александр Аркадьевич, - империя достигла, думаю, предела своих возможностей.
Это пик. Лет через двадцать начнется распад". Лет через двадцать. Это
какие-то грандиозные сроки. Разве ж доживем?
Мы дожили. В 1989 году произошла целая цепь "мягких революций" в
странах Восточной Европы, вывели войска из Афганистана. Империя посыпалась.
Что, действительно поэт - инстинкт нации, как сказал нам как-то Евтушенко?
- Да, Александр Аркадьевич, - спохватился я, - а как вас Таня залучила
к нам?
- ОМаленькое романтическое приключение в дороге. Была очередь на такси
у Никитских ворот. Первой стояла очень симпатичная девушка. Подошла машина.
Я спрашиваю, не по пути ли к метро "Аэропорт"? По пути. Едем. Вдруг нас
настигает колонна черных лимузинов, из головной сопровождающей "Волги" рев
динамика: "Водители, немедленно взять вправо и остановиться!". Все
шарахаются, тормозят, мимо проносится кавалькада, в машинах мелькнуло
несколько негров. Может быть, дружественный лидер прогрессивной африканской
страны сопровождается в Шереметьево? Девушка произносит: "И встав с подушки
кремовой, не промахнуться чтоб, бросает хризантему ей красавец эфиоп". "А
ведь ваш случайный попутчик - автор этих строк" - говорю я. "Как, вы -
Галич?!" "Я - он", - отвечаю, - и как заправский бюрократ показываю
документ. Она говорит, что не отпустит меня, что дома брат и его друг,
которые заочно меня прекрасно знают, и я просто должен ехать с ней. И вот я
здесь".
Чудесные совпадения продолжались. В разговоре выяснилось, что через
несколько дней Александр Аркадьевич едет в Минск, где у него договор с
"Беларусьфильмом" на проведение семинара кинодраматургов. И еще он собирался
заключить договор на сценарий комедии "Пестрый чемоданчик". Позже я подобрал
ему книги по истории Минска для написания сценария. Мы отправлялись в Минск
раньше Галича, договорилась встретить его на вокзале и устроить отдельную
квартиру.
А в тот день разговор продолжался.
- Александр Аркадьевич, а как вы дошли до жизни такой, что стали писать
эти песни?
- Ну, Галич - человек отпетый. Я к пятидесяти годам уже все видел, имел
все, что положено человеку моего круга, был выездным. Одним словом, был
благополучным советским холуем. (Здесь мы вздрогнули - все таки одно дело
фрондерские разговоры, а другое - такие термины, как "советский холуй"). Но
постепенно я все сильнее чувствовал - так жить больше не могу. Внутри что-то
зрело, требовало выхода наружу. И я решил - настало мое время говорить
правду. У вас есть гитара? Только что написал песню. Был в Дубне и под
впечатлением о такой великодушной интернациональной помощи сочинил. Никакого
отношения к нашему времени, девятнадцатый век. Так что, пардон, первое
исполнение, - несколько смущенно, как нам показалось, сказал Александр
Аркадьевич, беря гитару.
Это был его "Петербургский романс".
"Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный
час... Здесь всегда по квадрату на рассвете полки, От Синода к Сенату как
четыре строки".
На Красную площадь с протестом против ввода войск вышло 7 человек, и мы
это знали. Но у самих такой безумной мысли, конечно, не возникало.
А потом...
Месяц общения в Минске, песни, разговоры, разговоры. Потом встречи в
Москве, потом снова в Минске. Там поездки с Александром Аркадьевичем на моем
мотоцикле "Ява". Нужно было видеть эту картину: огромный Александр
Аркадьевич в шлеме, который торчал на макушке его большой головы.
"Бронтозавр на ящерице", - шутил он. Это были его первые в жизни выезды на
мотоцикле, которые его не только не пугали, а веселили и бодрили. По его
словам, самых сильных впечатлений от нашего общения в Минске было два.
Первое - это когда я в одной компании в доме будущего член-корра Михалевича
вместо живого Галича (он присутствовал тут же) включил для гостей магнитофон
с его песнями. Ибо там народ быстро надрался и мне было крайне неприятно
видеть, как большой поэт вынужден перед ними выдрючиваться. А потом и вовсе
его увез оттуда со словами: "Нечего вам тут делать, Александр Аркадьевич". И
мы тихо так, через сад ушли. Выяснилось, что это заметили далеко не сразу.
Александр Аркадьевич изумлялся: "Нет, Валера, я сам бы никогда не решился,
все-таки нас пригласили. Но в общем, правильно, что ушли."
А второе впечатление - это как раз гонка на мотоцикле. "Не страшно,
Александр Аркадьевич?" - спрашивал я после лихого поворота, спешиваясь
где-нибудь на лужайке на кольцевой минской дороге. "Нисколько, Валера. Я
недавно написал охранную песню-талисман "Когда собьет меня машина, сержант
напишет протокол". Так что с этой стороны я защищен."
А причина для песни была. В 1967 году, готовясь к празднованию 50-летия
Великого Октября, власти решили избавить народ от сочинителя пасквильных
песенок. Но один человек "из внутренних органов", большой почитатель Галича,
предупредил его об опасности. В том числе, и со стороны грузовиков. Минск,
Михоэлс. Галич хорошо знал Михоэлса лично и очень болезненно пережил его
убийство в Минске в 1948 г. Может быть, ОНИ решили тряхнуть стариной? Но
посадить в тот год точно хотели. У Александра Аркадьевича был товарищ,
заведующий нейрохирургической клиники, который поместил его на обследование,
примерно на месяц, пока не утихнут праздничные страсти. Александр Аркадьевич
попросил дать ему "общую камеру". Там уж он понаслушался, и народных
речений, да и о власти тоже.
Мы беседовали и беседовали. Приедем на мотоцикле в лесок, и обсуждаем
проблему ликвидации "Нового мира" и увольнение Твардовского. Как раз тогда
это, по слухам, готовилось. Он у меня, молодого человека, спрашивал: "Ну что
им стоит уволить и вообще закрыть журнал?" Я самонадеянно рассуждал, что это
приведет к массовому недовольству интеллигенции. И даже увольнение
Твардовского приведет к тому же - начнутся массовые отказы от подписки,
"разговорчики в строю". Нет, полагал я, они на это не пойдут. Но вы,
Александр Аркадьевич, скорбно улыбаясь, говорили: "Пойдут, Валера, они на
все могут пойти". Вы были правы в основном. Я - чуть-чуть. Журнал не
закрыли, но Твардовского уволили. Отказы от подписки были, но вовсе не
массовые.
Мое представление о времени было нахальным: казалось, всегда успею. Не
фотографировал Александра Аркадьевича. Правда, записывал его песни. И сейчас
у меня почти все его песни в "оригинальном исполнении". И частенько между
песнями попадались его рассказы, хотя обычно "между песен" магнитофон
выключал. Не из соображения экономии пленки, а казалось неудобным. Но иногда
забывал и не сразу это делал. Так и остались маленькие фрагменты его
удивительных рассказов и реплик. Хотя никаких просьб - дескать, сказанное
сейчас только между нами - никогда от Александра Аркадьевича не слышал. И он
никогда не просил выключать магнитофон во время бесед. Ныне понятно, что не
песни надо было записывать - это и без меня делали десятки людей, а вот
именно его рассказы. Рассказчик он был превосходный.
Но
зато однажды снял Галича 8-миллиметровой камерой, он как раз песню пел
"Егор Петрович Мальцев хворает, и всерьез". А потом, когда настали свободные
времена, когда мы с Аленой Архангельской-Галич (его дочь от первого брака)
восстанавливали в апреле 1988 года Галича в обоих союзах, профессионалы
кинулись снимать фильмы об авторах "самодеятельных песен". Первым оказался
Александр Стефанович, он приступил к документальному фильму "Барды". Одна
новелла в нем посвящена была Галичу. Фильм документальный, а ни одного
кинокадра Галича нет. Брат (младший) Галича Валерий Аркадьевич Гинзбург,
будучи сам профессиональным кинооператором на студии имени Горького,
оператор хороший (он снимал нашумевший и долго лежавший на полке фильм
Аскольдова "Комиссар", сам Аскольдов после разноса переквалифицировался в
директора концертного зала "Россия", потом, в перестройку, получил за
"Комиссара" премию, но публично в "Известиях" оказался от нее, так как не
хотел ее разделить с Гинзбургом, умыкнувшим личную копию фильма "Комиссар"
режиссера Аскольдова и сдавшего копию в органы), так вот, Валерий Аркадьевич
не снял о своем брате ничего. Боялся страшно. Говорят, в свое время бегал
"куда положено" и отрекался письменно от своего нелояльного родственника.
Бог ему судья. В обще-то человек он хороший, мягкий, но ведь прошел такие
годы, что могли бы сломать многих.
Напомню, на всякий случай, что Галич - это псевдоним, составленный из
первых слогов Гинзбург АЛександр АркадьевИЧ. Это также старинный русский
город и фамилия его бабки. Галич всегда считал себя русским литератором,
более того, православным, после того, как крестился у своего друга
Александра Меня летом 1972 года..
Не знаю точно, каким образом Александр Стефанович узнал (вроде бы, как
раз от Валерия Аркадьевича, которому я говорил), что у меня есть самодельная
катушечка фильма минут на семь. Позвонил, приехал, взял. Эти кадры есть в
фильме "Барды", но имя мое не названо. Сказано: единственные кадры в СССР,
снятые одним кинолюбителем. И не точно. Неточность в том, что "одним". Были,
были еще кадры. Их сняли в качестве оперативной съемки (скрытно) операторы
КГБ на выступлении Александра Галича (единственном такого уровня публичном)
в Новосибирском Академгородке, в клубе "Под Интегралом" в марте 1968 года,
где проходил фестиваль бардовской песни. Но эти кадры стали известны
позднее, их использовали в фильме о Галиче "Изгнание" режиссера Иосифа
Пастернака.
Пару лет назад мне написал Герман Безносов, "премьер-министр странных
дел" клуба "Под интегралом", один из организаторов первого фестиваля бардов
в 1968-м, архивариус клуба. Он поправил меня. По его словам, фестиваль
снимали официально две студии документальных фильмов: Новосибирская и
Свердловская . Фильм сняли, но пленки аудио и кино были арестованы органами.
Свердловские материалы сгинули. А в Новосибирске кто-то успел сделать
позитивы с негативов презентации. И эти немые позитивы чудом сохранились на
студии, располагавшейся в храме Ал.Невского. Когда его вернули церкви, при
переезде случайно обнаружили коробку с позитивами через 15-20 лет. Вал.
Новиков сделал на основе двух песен Галича фильм "Запрещенные песенки". И
потом наш друг Иосиф Пастернак и другие включили эти кадры в свои фильмы.
Позже Новиков с помощью нас, и глухих, читающих по губам,
восстановил-подобрал фонограммы для озвучивания немых позитивов и выпустил
вторую часть "Запрещенные песенки-2" других бардов. Итак, КГБ не снимал
фильмов, а взял готовые записи официальных съёмок. И пока их судьба
неизвестна.
Имя Галича для многих значило очень много. Но для немногих - еще
больше. Помню, в 1970 году в Москву приехал знаменитый Станислав Лем. Он
выступал в клубе Курчатовского института. Нам (со Славой Степиным) очень
хотелось пообщаться с ним в частной обстановке. Но как подойти? Поделился
желанием с Александром Аркадьевичем, он тут же: "Мы хорошо знакомы, я сейчас
напишу ему записку". Смотрю: "Дорогой Станислав! Рекомендую тебе своих
друзей - Валеру и Славу. Найди возможность с ними встретиться - не
пожалеешь". После выступления мэтра философской фантастики подхожу к Лему,
спрашиваю, не найдет ли он время для поездки к нам домой. Лем весьма
удивлен: "Вы знаете (он свободно говорит по-русски) совершенно нет времени,
все расписано по минутам". Я молча протянул ему записку. Лем пробежал
глазами, произнес: "Это другое дело. Я отменю на сегодня ряд встреч,
приезжайте ко мне в гостиницу "Варшава" в семь. Сумеете?"
Что за разговор! Не могу удержаться от одного момента, уже не в связи с
Галичем, а в связи с Лемом. Уж слишком он поразил мое воображение. Первый
вопрос, который я задал ему, когда мы шли к машине: "Пан Станислав, как к
вам относится польское правительство?" Он засмеялся: "Примерно, как к
редкому животному: с одной стороны хочется застрелить, но с другой -
показать иностранцам. Пока второе несколько перевешивает". А потом мы
просидели до двух ночи (!). Это был такой праздник мысли, что мы часов не
наблюдали.
Но вернемся к Александру Аркадьевичу. Осенью 1968 года, вскоре после
смерти академика Льва Ландау, на одной нашей встрече он рассказывал, что был
единственным из мира искусства, которого пригласили на 60-летие Ландау (в
январе 1968). Александр Аркадьевич через своего двоюродного брата,
академика-физика Виталия Гинзбурга был связан с миром ученых. Ландау, по
словам Галича, после известной автокатастрофы (он поехал на свидание с
аспиранткой в гололед и машина наскочила на асфальтовый каток, его собирали
по частям, более пяти минут находился в клинической смерти) был не более,
чем живым памятником себе. Ландау сидел в бархатном черном пиджаке, прямой,
изящный, тонкий, с бесстрастным лицом. К нему подводили гостей, те
поздравляли, а Ландау всем, включая самых близких друзей, говорил
грамофонным голосом: "Спасибо. Очень рад с вами познакомиться". Рад он был
познакомиться и с Галичем. Галич пел.
Он великолепно знал поэзию. Помнил множество строк. Воспроизведу
дословно один его рассказ.
- Я опять начинаю восхвалять это замечательное занятие, придуманное
человечеством, которое не имеет ничего себе равного. Поэзия. Все переводимо:
музыка переводима. Живопись абсолютна интернациональна. Точно так же как,
архитектура , скульптура - они абсолютно интернациональны. Певец - мне
совершенно наплевать, поет ли он "О донна мобиле", или "Сердце красавицы
склонно к измене". А в поэзии я ничего не могу понять, я могу только могу
поверить. Я могу поверить, что Байрон великий поэт, хотя в России никогда
никто в это всерьез не верил. Даже в переводе Гнедича. Трудно поверить.
Плохой поэт, если говорить серьезно. Но наверное, он великий английский
поэт. Гейне вообще не существует по-русски. Его нельзя переводить. Та дикая
простота, с которой он писал, она непереводима. Ее можно только понимать в
тех цезурах, которых нет в русском языке.
Шел 1965 год. Как сейчас говорим, начало застоя. Но времена были вполне
вегетарианские, никто не предлагал нам: "Пройдемте, там вам все разъяснят".
А были мы кто старшим преподавателем кафедры философии Белорусского
политехнического института, как мой друг Слава Степин, кто ассистентом, как
Альберт Шкляр, кто аспирантом (ваш покорный слуга). Много ли надо, чтобы
испортить жизнь. Один сигнал -- и вон из института с волчьим билетом.
Помню разговор во Фрунзенском после концерта. Солидный такой товарищ,
слушал внимательно, смеялся. Спрашивает:
- А чьи песни? Первый раз слышу.
Сказали.
- А не страшно?
Мы удивились:
- Чего тут такого? Легкая критика отдельных недостатков.
- Где ж легкая? Взять эту "Леночку". Девицу подарили сыну шаха, там и
гонец с ЦК КПСС в мотоциклетке марочной, и сынок потом покончил с папой, а
Леночку вашу уже как шахиню узнал весь белый свет. И это легкая критика?
- А нет? Девушку пригласили на прием к сыну шаха, он же гость и
попросил ее позвать. Там он ей предложил поехать с ним, она согласилась.
Новая жизнь, дальние берега. А что у сына Ахмеда рука оказалась тяжелой, так
вот это и есть легкая критика. Причем не ЦК, и даже не Ахмеда. Гость
все-таки был, а критика папы - шаха. Так его не очень-то и жалко. Он,
небось, от народа был страшно далек, хотя и не декабрист. Да и какие
декабристы могут быть в Африке? Там и декабря-то не бывает. Сплошное лето.
- А в этой, как его, про Парамонову, тоже легкая критика?
- Еще легче. Типичное персональное дело на мелкого человечка, мужа
профсоюзной начальницы.
- Небось секретаря ЦК профсоюзов?
-Там не сказано. Но допустим. Она мужа своего к порядку призвала. Ему
за аморалку дали строгача с занесением.
- А концовка?
- А что концовка? Это ж вообще хэппи энд. Что там говорит товарищ
Грошева - допустим, секретарь горкома? "Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
помиритесь вы теперь по-хорошему". Они помирились, никакого тебе развода. И
концовка оптимистическая: "Она выпила "Дюрсо", а я "Перцовую" за советскую
семью образцовую".
- Ну-ну, - усмехнулся товарищ. - Но вы все-таки осторожнее. Ходят-то
всякие. Неправильно могут понять.
Нет, что ни говорите, при обвешанном орденами Леониде Ильиче царили
вполне травоядные времена.
Лирические песни Галича мы не пели. И сложные философские - тоже. Это
уж потом приобщились. А вот репортаж с матча английской и советской сборных
- за милую душу.
Мы воспринимали богатый и сочный баритон Галича как голос пророка,
фигуры для нас почти инопланетной, мифической; мы его не видели, даже на
фотографиях. И вдруг...
Кончался 1968 год. Часов в семь вечера открывается дверь и входит моя
сестра Таня (я часто приезжал из Минска в Москву и останавливался у своих
сестер), рядом с ней какой-то большой человек. "Ребята, - сообщает она. -
Это - Александр Аркадьевич Галич!" Я и приехавший со мной из Минска Слава
Степин охотно поддержали шутку. А что это, если не шутка? Галич к
новогоднему столу. Для развлечения. Как сейчас говорят, анимация.
- Давно ждем, - отзывается Слава и широким жестом показывает на стол,
уставленный бутылками и закусками. -- Он поможет нам справиться с этими
антисоциалистическими элементами.
Напомню, дело происходило на следующий день после ввода войск в
Чехословакию.
- Под видом Деда Мороза,- вставил я свои аспирантские пять копеек. -
Чтобы никто не думал, будто мы отмечаем ввод войск в дружественную
Чехословакию. А просто наступил Новый год и приблизилось светлое будущее.
- Но я, действительно, Галич, - обезоруживающе улыбнулся большой
человек. С этими словами он показал нам членский билет Союза писателей.
Как пишут драматурги: пауза.
Но тут же - за стол и через пять минут казалось, что мы знакомы всю
жизнь. Разговор, естественно, пошел о Чехословакии. "Что ж, - сказал
Александр Аркадьевич, - империя достигла, думаю, предела своих возможностей.
Это пик. Лет через двадцать начнется распад". Лет через двадцать. Это
какие-то грандиозные сроки. Разве ж доживем?
Мы дожили. В 1989 году произошла целая цепь "мягких революций" в
странах Восточной Европы, вывели войска из Афганистана. Империя посыпалась.
Что, действительно поэт - инстинкт нации, как сказал нам как-то Евтушенко?
- Да, Александр Аркадьевич, - спохватился я, - а как вас Таня залучила
к нам?
- ОМаленькое романтическое приключение в дороге. Была очередь на такси
у Никитских ворот. Первой стояла очень симпатичная девушка. Подошла машина.
Я спрашиваю, не по пути ли к метро "Аэропорт"? По пути. Едем. Вдруг нас
настигает колонна черных лимузинов, из головной сопровождающей "Волги" рев
динамика: "Водители, немедленно взять вправо и остановиться!". Все
шарахаются, тормозят, мимо проносится кавалькада, в машинах мелькнуло
несколько негров. Может быть, дружественный лидер прогрессивной африканской
страны сопровождается в Шереметьево? Девушка произносит: "И встав с подушки
кремовой, не промахнуться чтоб, бросает хризантему ей красавец эфиоп". "А
ведь ваш случайный попутчик - автор этих строк" - говорю я. "Как, вы -
Галич?!" "Я - он", - отвечаю, - и как заправский бюрократ показываю
документ. Она говорит, что не отпустит меня, что дома брат и его друг,
которые заочно меня прекрасно знают, и я просто должен ехать с ней. И вот я
здесь".
Чудесные совпадения продолжались. В разговоре выяснилось, что через
несколько дней Александр Аркадьевич едет в Минск, где у него договор с
"Беларусьфильмом" на проведение семинара кинодраматургов. И еще он собирался
заключить договор на сценарий комедии "Пестрый чемоданчик". Позже я подобрал
ему книги по истории Минска для написания сценария. Мы отправлялись в Минск
раньше Галича, договорилась встретить его на вокзале и устроить отдельную
квартиру.
А в тот день разговор продолжался.
- Александр Аркадьевич, а как вы дошли до жизни такой, что стали писать
эти песни?
- Ну, Галич - человек отпетый. Я к пятидесяти годам уже все видел, имел
все, что положено человеку моего круга, был выездным. Одним словом, был
благополучным советским холуем. (Здесь мы вздрогнули - все таки одно дело
фрондерские разговоры, а другое - такие термины, как "советский холуй"). Но
постепенно я все сильнее чувствовал - так жить больше не могу. Внутри что-то
зрело, требовало выхода наружу. И я решил - настало мое время говорить
правду. У вас есть гитара? Только что написал песню. Был в Дубне и под
впечатлением о такой великодушной интернациональной помощи сочинил. Никакого
отношения к нашему времени, девятнадцатый век. Так что, пардон, первое
исполнение, - несколько смущенно, как нам показалось, сказал Александр
Аркадьевич, беря гитару.
Это был его "Петербургский романс".
"Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный
час... Здесь всегда по квадрату на рассвете полки, От Синода к Сенату как
четыре строки".
На Красную площадь с протестом против ввода войск вышло 7 человек, и мы
это знали. Но у самих такой безумной мысли, конечно, не возникало.
А потом...
Месяц общения в Минске, песни, разговоры, разговоры. Потом встречи в
Москве, потом снова в Минске. Там поездки с Александром Аркадьевичем на моем
мотоцикле "Ява". Нужно было видеть эту картину: огромный Александр
Аркадьевич в шлеме, который торчал на макушке его большой головы.
"Бронтозавр на ящерице", - шутил он. Это были его первые в жизни выезды на
мотоцикле, которые его не только не пугали, а веселили и бодрили. По его
словам, самых сильных впечатлений от нашего общения в Минске было два.
Первое - это когда я в одной компании в доме будущего член-корра Михалевича
вместо живого Галича (он присутствовал тут же) включил для гостей магнитофон
с его песнями. Ибо там народ быстро надрался и мне было крайне неприятно
видеть, как большой поэт вынужден перед ними выдрючиваться. А потом и вовсе
его увез оттуда со словами: "Нечего вам тут делать, Александр Аркадьевич". И
мы тихо так, через сад ушли. Выяснилось, что это заметили далеко не сразу.
Александр Аркадьевич изумлялся: "Нет, Валера, я сам бы никогда не решился,
все-таки нас пригласили. Но в общем, правильно, что ушли."
А второе впечатление - это как раз гонка на мотоцикле. "Не страшно,
Александр Аркадьевич?" - спрашивал я после лихого поворота, спешиваясь
где-нибудь на лужайке на кольцевой минской дороге. "Нисколько, Валера. Я
недавно написал охранную песню-талисман "Когда собьет меня машина, сержант
напишет протокол". Так что с этой стороны я защищен."
А причина для песни была. В 1967 году, готовясь к празднованию 50-летия
Великого Октября, власти решили избавить народ от сочинителя пасквильных
песенок. Но один человек "из внутренних органов", большой почитатель Галича,
предупредил его об опасности. В том числе, и со стороны грузовиков. Минск,
Михоэлс. Галич хорошо знал Михоэлса лично и очень болезненно пережил его
убийство в Минске в 1948 г. Может быть, ОНИ решили тряхнуть стариной? Но
посадить в тот год точно хотели. У Александра Аркадьевича был товарищ,
заведующий нейрохирургической клиники, который поместил его на обследование,
примерно на месяц, пока не утихнут праздничные страсти. Александр Аркадьевич
попросил дать ему "общую камеру". Там уж он понаслушался, и народных
речений, да и о власти тоже.
Мы беседовали и беседовали. Приедем на мотоцикле в лесок, и обсуждаем
проблему ликвидации "Нового мира" и увольнение Твардовского. Как раз тогда
это, по слухам, готовилось. Он у меня, молодого человека, спрашивал: "Ну что
им стоит уволить и вообще закрыть журнал?" Я самонадеянно рассуждал, что это
приведет к массовому недовольству интеллигенции. И даже увольнение
Твардовского приведет к тому же - начнутся массовые отказы от подписки,
"разговорчики в строю". Нет, полагал я, они на это не пойдут. Но вы,
Александр Аркадьевич, скорбно улыбаясь, говорили: "Пойдут, Валера, они на
все могут пойти". Вы были правы в основном. Я - чуть-чуть. Журнал не
закрыли, но Твардовского уволили. Отказы от подписки были, но вовсе не
массовые.
Мое представление о времени было нахальным: казалось, всегда успею. Не
фотографировал Александра Аркадьевича. Правда, записывал его песни. И сейчас
у меня почти все его песни в "оригинальном исполнении". И частенько между
песнями попадались его рассказы, хотя обычно "между песен" магнитофон
выключал. Не из соображения экономии пленки, а казалось неудобным. Но иногда
забывал и не сразу это делал. Так и остались маленькие фрагменты его
удивительных рассказов и реплик. Хотя никаких просьб - дескать, сказанное
сейчас только между нами - никогда от Александра Аркадьевича не слышал. И он
никогда не просил выключать магнитофон во время бесед. Ныне понятно, что не
песни надо было записывать - это и без меня делали десятки людей, а вот
именно его рассказы. Рассказчик он был превосходный.
Но
зато однажды снял Галича 8-миллиметровой камерой, он как раз песню пел
"Егор Петрович Мальцев хворает, и всерьез". А потом, когда настали свободные
времена, когда мы с Аленой Архангельской-Галич (его дочь от первого брака)
восстанавливали в апреле 1988 года Галича в обоих союзах, профессионалы
кинулись снимать фильмы об авторах "самодеятельных песен". Первым оказался
Александр Стефанович, он приступил к документальному фильму "Барды". Одна
новелла в нем посвящена была Галичу. Фильм документальный, а ни одного
кинокадра Галича нет. Брат (младший) Галича Валерий Аркадьевич Гинзбург,
будучи сам профессиональным кинооператором на студии имени Горького,
оператор хороший (он снимал нашумевший и долго лежавший на полке фильм
Аскольдова "Комиссар", сам Аскольдов после разноса переквалифицировался в
директора концертного зала "Россия", потом, в перестройку, получил за
"Комиссара" премию, но публично в "Известиях" оказался от нее, так как не
хотел ее разделить с Гинзбургом, умыкнувшим личную копию фильма "Комиссар"
режиссера Аскольдова и сдавшего копию в органы), так вот, Валерий Аркадьевич
не снял о своем брате ничего. Боялся страшно. Говорят, в свое время бегал
"куда положено" и отрекался письменно от своего нелояльного родственника.
Бог ему судья. В обще-то человек он хороший, мягкий, но ведь прошел такие
годы, что могли бы сломать многих.
Напомню, на всякий случай, что Галич - это псевдоним, составленный из
первых слогов Гинзбург АЛександр АркадьевИЧ. Это также старинный русский
город и фамилия его бабки. Галич всегда считал себя русским литератором,
более того, православным, после того, как крестился у своего друга
Александра Меня летом 1972 года..
Не знаю точно, каким образом Александр Стефанович узнал (вроде бы, как
раз от Валерия Аркадьевича, которому я говорил), что у меня есть самодельная
катушечка фильма минут на семь. Позвонил, приехал, взял. Эти кадры есть в
фильме "Барды", но имя мое не названо. Сказано: единственные кадры в СССР,
снятые одним кинолюбителем. И не точно. Неточность в том, что "одним". Были,
были еще кадры. Их сняли в качестве оперативной съемки (скрытно) операторы
КГБ на выступлении Александра Галича (единственном такого уровня публичном)
в Новосибирском Академгородке, в клубе "Под Интегралом" в марте 1968 года,
где проходил фестиваль бардовской песни. Но эти кадры стали известны
позднее, их использовали в фильме о Галиче "Изгнание" режиссера Иосифа
Пастернака.
Пару лет назад мне написал Герман Безносов, "премьер-министр странных
дел" клуба "Под интегралом", один из организаторов первого фестиваля бардов
в 1968-м, архивариус клуба. Он поправил меня. По его словам, фестиваль
снимали официально две студии документальных фильмов: Новосибирская и
Свердловская . Фильм сняли, но пленки аудио и кино были арестованы органами.
Свердловские материалы сгинули. А в Новосибирске кто-то успел сделать
позитивы с негативов презентации. И эти немые позитивы чудом сохранились на
студии, располагавшейся в храме Ал.Невского. Когда его вернули церкви, при
переезде случайно обнаружили коробку с позитивами через 15-20 лет. Вал.
Новиков сделал на основе двух песен Галича фильм "Запрещенные песенки". И
потом наш друг Иосиф Пастернак и другие включили эти кадры в свои фильмы.
Позже Новиков с помощью нас, и глухих, читающих по губам,
восстановил-подобрал фонограммы для озвучивания немых позитивов и выпустил
вторую часть "Запрещенные песенки-2" других бардов. Итак, КГБ не снимал
фильмов, а взял готовые записи официальных съёмок. И пока их судьба
неизвестна.
Имя Галича для многих значило очень много. Но для немногих - еще
больше. Помню, в 1970 году в Москву приехал знаменитый Станислав Лем. Он
выступал в клубе Курчатовского института. Нам (со Славой Степиным) очень
хотелось пообщаться с ним в частной обстановке. Но как подойти? Поделился
желанием с Александром Аркадьевичем, он тут же: "Мы хорошо знакомы, я сейчас
напишу ему записку". Смотрю: "Дорогой Станислав! Рекомендую тебе своих
друзей - Валеру и Славу. Найди возможность с ними встретиться - не
пожалеешь". После выступления мэтра философской фантастики подхожу к Лему,
спрашиваю, не найдет ли он время для поездки к нам домой. Лем весьма
удивлен: "Вы знаете (он свободно говорит по-русски) совершенно нет времени,
все расписано по минутам". Я молча протянул ему записку. Лем пробежал
глазами, произнес: "Это другое дело. Я отменю на сегодня ряд встреч,
приезжайте ко мне в гостиницу "Варшава" в семь. Сумеете?"
Что за разговор! Не могу удержаться от одного момента, уже не в связи с
Галичем, а в связи с Лемом. Уж слишком он поразил мое воображение. Первый
вопрос, который я задал ему, когда мы шли к машине: "Пан Станислав, как к
вам относится польское правительство?" Он засмеялся: "Примерно, как к
редкому животному: с одной стороны хочется застрелить, но с другой -
показать иностранцам. Пока второе несколько перевешивает". А потом мы
просидели до двух ночи (!). Это был такой праздник мысли, что мы часов не
наблюдали.
Но вернемся к Александру Аркадьевичу. Осенью 1968 года, вскоре после
смерти академика Льва Ландау, на одной нашей встрече он рассказывал, что был
единственным из мира искусства, которого пригласили на 60-летие Ландау (в
январе 1968). Александр Аркадьевич через своего двоюродного брата,
академика-физика Виталия Гинзбурга был связан с миром ученых. Ландау, по
словам Галича, после известной автокатастрофы (он поехал на свидание с
аспиранткой в гололед и машина наскочила на асфальтовый каток, его собирали
по частям, более пяти минут находился в клинической смерти) был не более,
чем живым памятником себе. Ландау сидел в бархатном черном пиджаке, прямой,
изящный, тонкий, с бесстрастным лицом. К нему подводили гостей, те
поздравляли, а Ландау всем, включая самых близких друзей, говорил
грамофонным голосом: "Спасибо. Очень рад с вами познакомиться". Рад он был
познакомиться и с Галичем. Галич пел.
Он великолепно знал поэзию. Помнил множество строк. Воспроизведу
дословно один его рассказ.
- Я опять начинаю восхвалять это замечательное занятие, придуманное
человечеством, которое не имеет ничего себе равного. Поэзия. Все переводимо:
музыка переводима. Живопись абсолютна интернациональна. Точно так же как,
архитектура , скульптура - они абсолютно интернациональны. Певец - мне
совершенно наплевать, поет ли он "О донна мобиле", или "Сердце красавицы
склонно к измене". А в поэзии я ничего не могу понять, я могу только могу
поверить. Я могу поверить, что Байрон великий поэт, хотя в России никогда
никто в это всерьез не верил. Даже в переводе Гнедича. Трудно поверить.
Плохой поэт, если говорить серьезно. Но наверное, он великий английский
поэт. Гейне вообще не существует по-русски. Его нельзя переводить. Та дикая
простота, с которой он писал, она непереводима. Ее можно только понимать в
тех цезурах, которых нет в русском языке.
| (Берет гитару, поет на свою мелодию) Вот иду я вдоль большой дороги, В тихом свете гаснущего дня, Тяжело мне, замирают ноги, Ангел мой, ты видишь ли меня? Все темней, темнее над землею, Улетел последний отблеск дня, Вот тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день поминок и печали, Завтра память рокового дня Ангел мой, где б души не витали, Ангел мой, ты видишь ли меня? |
| Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. |
| Вот иду я вдоль большой дороги... В тихом свете гаснущего дня... |
| Черный вечер, белый снег Ветер, ветер... |
| Я вас любил, любовь еще быть может... Было такое? На холмах Грузии лежит ночная мгла... Редеет облаков летучая гряда... Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя... Есть речи, значенье темно иль ничтожно... |
| Ах, осыпались лапы елочьи, Отзвенели его метели. |
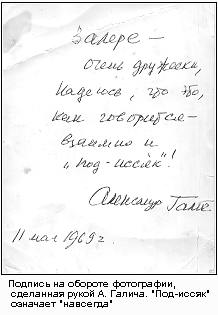 - Как поступить, отец, - спрашивает сын.
- Сколько тебе сейчас лет? - вместо ответа спрашивает тот.
- Двадцать.
- А мне - девятнадцать.
И растворяется в вечном своем небытии. Дескать, что ж ты у меня
спрашиваешь. Тебе и лет больше, и живешь ты позже. Стало быть, лучше меня
должен знать.
Мне казалось, это блестящая сцена. Никита Сергеевич с моим незрелым
мнением не посчитался, и директивно заявил, что в этой сцене содержится
прокламация вымышленной для советского общества проблемы отцов и детей. Он
очень осерчал и дал сигнал Ильичеву. Но вы... Вы тоже считали, что сцена
превосходная, (в пьесе Галича "Матросская тишина" есть аналогичная,
написанная гораздо раньше, в 1946г.), но заметили: "Все-таки в ней есть и
неточность. Отец всегда останется старше сына. И даже оттуда, зная меньше о
текущих земных делах, знает больше о душе человека. Особенно своего сына".
Вы тогда, 22 августа 1968 года, когда мы познакомились, были старше
меня, аспиранта философии, почти на 20 лет. Сейчас я вас догнал по земному
сроку и даже перегнал. Но вы - как были, так и остались старше. И мудрее. И
больше знаете и читаете в сердцах.
"КОГДА Я ВЕРНУСЬ..."
О причинах смерти Галича ходит много слухов. Самый распространенный --
агенты КГБ достали. Не думаю. Хотя бы потому, что после убийства Бандеры в
1959 году, наделавшего много шума, КГБ получил установку не применять более
такого рода акций за границей. Так пишет не только старый агент и
организатор многих ликвидаций Павел Судоплатов, но и известный исследователь
действий спецслужб Баррон в своих книгах "КГБ" и "КГБ сегодня". Это же
подтверждает и генерал КГБ Олег Калугин. Правда, "имело место" еще убийство
болгарского писателя-диссидента Маркова в Англии в середине 70-х, но то
исполняли уже болгары, а Олег Калугин, по его словам, "только
консультировал". Его вина, видимо, не так велика, раз он получил рабочую
визу и живет ныне в Нью-Йорке, занимаясь бизнесом. Хотя... Хотя в грин-карте
американские иммиграционные власти ему отказывают по сей день. Не из-за
Маркова, а потому, что генеральский чин он заработал, в том числе, за свои
антиамериканские акции, еще когда был в силе и не диссидентствовал.
Но слух по поводу причины смерти Галича держится упорно. Дескать,
знаем, знаем, кто прислал стереоустановку. Специально подключили к антенному
выходу напряжение. Галич сунул туда антенный провод -- и готово. Или тайной
отмычкой открыли дверь, там зажали провод в руке и ударили током,
сымитировав самоубийство.
Опять же, если уж об убийстве Маркова "болгарским зонтиком"
(специальные микропилюли, которые вкалываются в тело через зонтик или
воздушный пистолет и приводят через пару дней к параличу сердца, а потом
бесследно рассасываются, так что вскрытие ничего не показывает) стало
довольно давно известно (лет восемь назад) со слов таких информированных
людей, как Калугин, то о Галиче уж не преминул бы поведать какой-нибудь
специалист по мокрым делам, жаждущий геростратовой славы.
Отменили акции вовсе не из соображений гуманизма, а просто потому, что
шум стоял слишком большой. Получалось -- себе дороже. Даже когда шла речь о
косвенном участии, как в покушении Агджи на папу римского Павла-Ионна II в
1980 году. Так ведь речь шла об отпадении всей Польши! И то пришлось
отмежевываться -- никакого Агджи не знаем и очень его осуждаем. Марксисты,
мол, всегда были противниками индивидуального террора. Когда ликвидировали
агентов-перебежчиков Кривицкого или Рейсса, т
- Как поступить, отец, - спрашивает сын.
- Сколько тебе сейчас лет? - вместо ответа спрашивает тот.
- Двадцать.
- А мне - девятнадцать.
И растворяется в вечном своем небытии. Дескать, что ж ты у меня
спрашиваешь. Тебе и лет больше, и живешь ты позже. Стало быть, лучше меня
должен знать.
Мне казалось, это блестящая сцена. Никита Сергеевич с моим незрелым
мнением не посчитался, и директивно заявил, что в этой сцене содержится
прокламация вымышленной для советского общества проблемы отцов и детей. Он
очень осерчал и дал сигнал Ильичеву. Но вы... Вы тоже считали, что сцена
превосходная, (в пьесе Галича "Матросская тишина" есть аналогичная,
написанная гораздо раньше, в 1946г.), но заметили: "Все-таки в ней есть и
неточность. Отец всегда останется старше сына. И даже оттуда, зная меньше о
текущих земных делах, знает больше о душе человека. Особенно своего сына".
Вы тогда, 22 августа 1968 года, когда мы познакомились, были старше
меня, аспиранта философии, почти на 20 лет. Сейчас я вас догнал по земному
сроку и даже перегнал. Но вы - как были, так и остались старше. И мудрее. И
больше знаете и читаете в сердцах.
"КОГДА Я ВЕРНУСЬ..."
О причинах смерти Галича ходит много слухов. Самый распространенный --
агенты КГБ достали. Не думаю. Хотя бы потому, что после убийства Бандеры в
1959 году, наделавшего много шума, КГБ получил установку не применять более
такого рода акций за границей. Так пишет не только старый агент и
организатор многих ликвидаций Павел Судоплатов, но и известный исследователь
действий спецслужб Баррон в своих книгах "КГБ" и "КГБ сегодня". Это же
подтверждает и генерал КГБ Олег Калугин. Правда, "имело место" еще убийство
болгарского писателя-диссидента Маркова в Англии в середине 70-х, но то
исполняли уже болгары, а Олег Калугин, по его словам, "только
консультировал". Его вина, видимо, не так велика, раз он получил рабочую
визу и живет ныне в Нью-Йорке, занимаясь бизнесом. Хотя... Хотя в грин-карте
американские иммиграционные власти ему отказывают по сей день. Не из-за
Маркова, а потому, что генеральский чин он заработал, в том числе, за свои
антиамериканские акции, еще когда был в силе и не диссидентствовал.
Но слух по поводу причины смерти Галича держится упорно. Дескать,
знаем, знаем, кто прислал стереоустановку. Специально подключили к антенному
выходу напряжение. Галич сунул туда антенный провод -- и готово. Или тайной
отмычкой открыли дверь, там зажали провод в руке и ударили током,
сымитировав самоубийство.
Опять же, если уж об убийстве Маркова "болгарским зонтиком"
(специальные микропилюли, которые вкалываются в тело через зонтик или
воздушный пистолет и приводят через пару дней к параличу сердца, а потом
бесследно рассасываются, так что вскрытие ничего не показывает) стало
довольно давно известно (лет восемь назад) со слов таких информированных
людей, как Калугин, то о Галиче уж не преминул бы поведать какой-нибудь
специалист по мокрым делам, жаждущий геростратовой славы.
Отменили акции вовсе не из соображений гуманизма, а просто потому, что
шум стоял слишком большой. Получалось -- себе дороже. Даже когда шла речь о
косвенном участии, как в покушении Агджи на папу римского Павла-Ионна II в
1980 году. Так ведь речь шла об отпадении всей Польши! И то пришлось
отмежевываться -- никакого Агджи не знаем и очень его осуждаем. Марксисты,
мол, всегда были противниками индивидуального террора. Когда ликвидировали
агентов-перебежчиков Кривицкого или Рейсса, т